«ТУМАННЫЕ КАРТИНЫ»
Н. В. Пинегина из экспедиции
Г. Я. Седова к Северному полюсу 1912—1914 гг.
Настоящей находкой стали два материала, предоставленные специально для этого издания внучатыми племянницами Н. В. Пинегина — Светланой Александровной Скачковой и Галиной Алексеевной Дмитриевской.
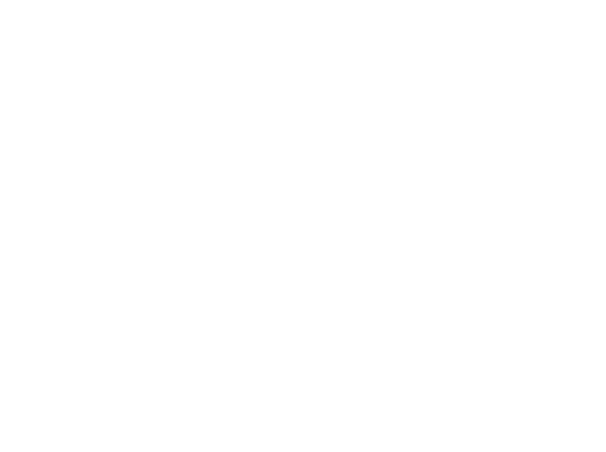
В. А. Смирницкой-Шпаковской
Чтобы погрузить читателя в атмосферу полярной экспедиции, завершившейся более 100 лет назад, в качестве иллюстраций к снимкам подобраны предметы из фонда музея, так или иначе относящиеся к жизни и быту полярников того времени.
Родился 27 апреля (10 мая) 1883 года в Елабуге в большой семье разъездного ветеринарного врача. Многие детали детства и юности будущего полярника как будто взяты из приключенческих романов. Большая семья, в которой родилось семь детей, второй брак овдовевшего отца.
У Николая не сложились отношения с мачехой, он рано уходит из дома, учится сначала в Вятском реальном училище, потом в Пермской гимназии, из пятого класса которой исключается «за неповиновение».
В 18 лет поступает в Казанское художественное училище, причём сразу в четвёртый класс, средства на существование добывает увеличением портретов, игрой в духовом оркестре и частными уроками. На первых курсах обучения студент, лишённый чьей-либо поддержки, испытывал большую нужду, которая заставляла его браться за любую работу.
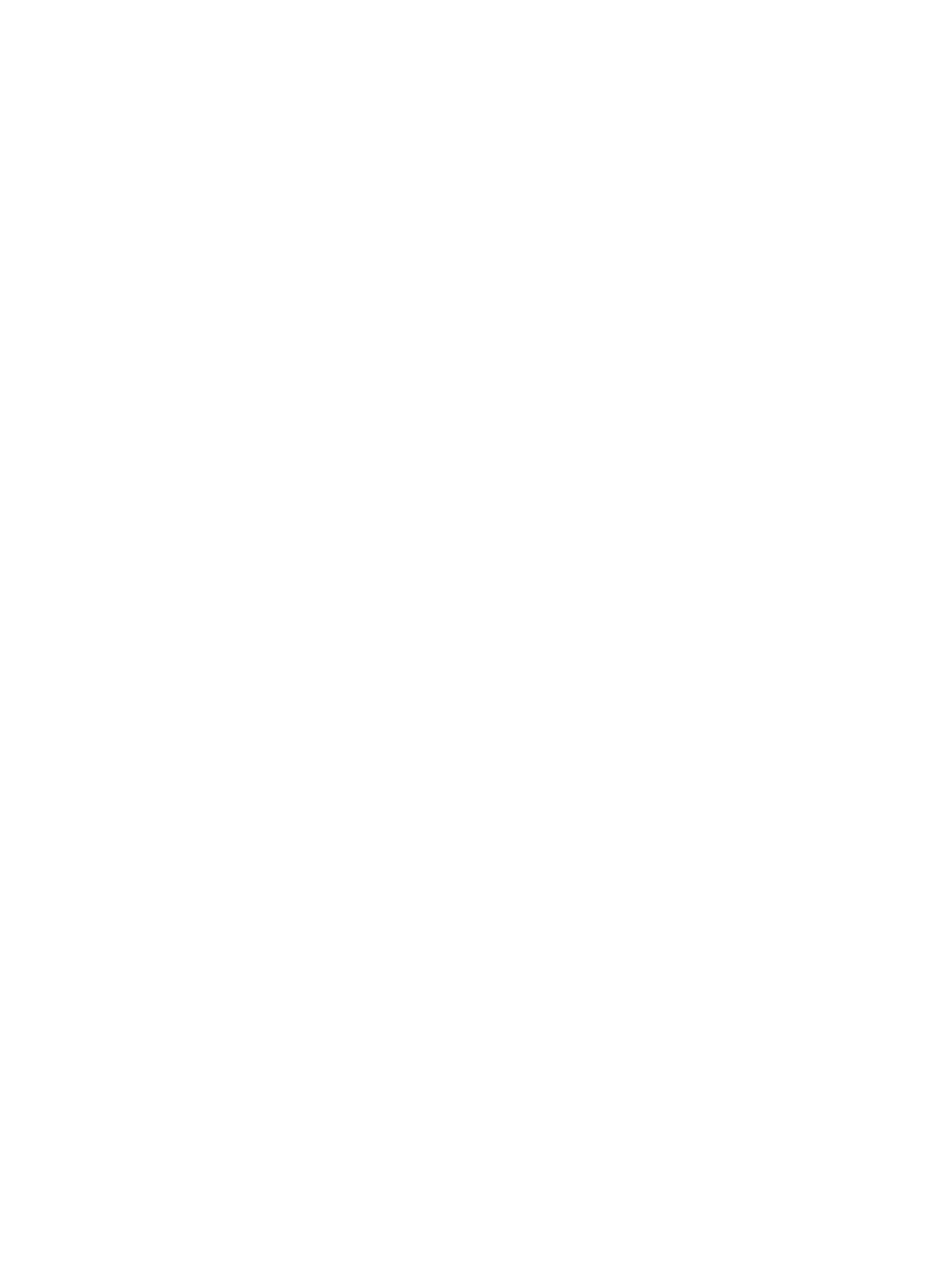
В 1910 году, Пинегин проездом через Архангельск впервые оказывается на Новой Земле, где несколько месяцев работает в губе Крестовая. Тогда же на охранном судне «Бакан» он совершает плавание до северной оконечности архипелага, посещает и пишет целый ряд заливов западного побережья Северного острова. Но главное — ещё по пути на архипелаг, на борту парохода «Королева Ольга Константиновна», он встречается с морским офицером, гидрографом Г. Я. Седовым! Случайное знакомство переросло
в недолгую, но крепкую дружбу и многое определило в жизни обоих. Долгие разговоры ещё более долгими полярными ночами, мечты о зимовке в Арктике и планы о походе на Северный полюс объединили их условным
договором попытаться сделать это вместе.
В 1910 году, Пинегин проездом через Архангельск впервые оказывается на Новой Земле, где несколько месяцев работает в губе Крестовая. Тогда же на охранном судне «Бакан» он совершает плавание до северной оконечности архипелага, посещает и пишет целый ряд заливов западного побережья Северного острова. Но главное — ещё по пути на архипелаг, на борту парохода «Королева Ольга Константиновна», он встречается с морским офицером, гидрографом Г. Я. Седовым! Случайное знакомство переросло в недолгую, но крепкую дружбу и многое определило в жизни обоих. Долгие разговоры ещё более долгими полярными ночами, мечты о зимовке в Арктике и планы о походе на Северный полюс объединили их условным договором попытаться сделать это вместе.
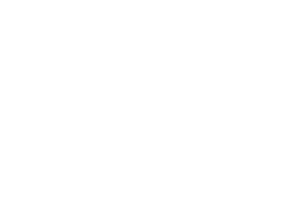
В. А. Русанов (справа) с фотоаппаратом.
Новая Земля, 1908 год. Фото З.Виноградова
Создавалась коллекция снимков по флоре и фауне Арктики, природным явлениям, пейзажам, геологическим образованиям, ведь каждый такой снимок дополнял научные отчёты и уточнённые карты архипелагов.
Необходимо отметить, что кроме Пинегина фотосъёмкой в экспедиции занимался и Седов.
Н. В. Пинегин в своей каюте на борту шхуны «Святой мученик Фока».
Возможно, автор фото — Г. Я. Седов, 1912—1914 годы
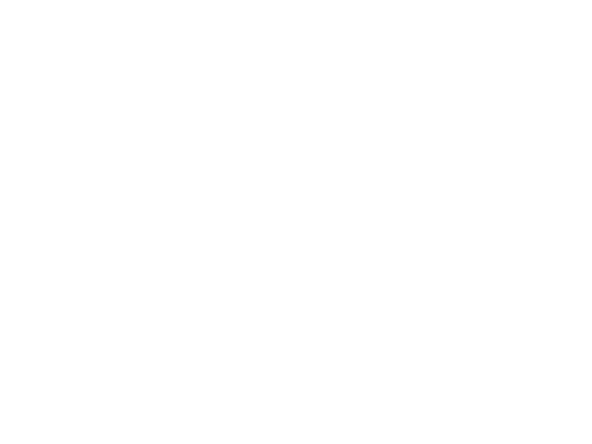
Но его увлечение фотографией, возможно, спасло жизни Пустошному и Линнику. Возвращаясь от острова Рудольфа, они заблудились и смогли сориентироваться только потому, что заметили аркообразный айсберг, который фотографировал Седов ранее. Даже при очень ограниченном количестве вещей, которое можно было взять с собой на полюс, в списке под № 60 у него значится «Фот. аппарат с 12 пласт. — 3 ½ ф.».
Скорее всего, это был показ напрямую с фотопластинок, изготовленных Пинегиным на борту судна, что было немного рискованно — пластинки могли поцарапаться или повредиться при неосторожном обращении.
Но его увлечение фотографией, возможно, спасло жизни Пустошному и Линнику. Возвращаясь от острова Рудольфа, они заблудились и смогли сориентироваться только потому, что заметили аркообразный айсберг, который фотографировал Седов ранее. Даже при очень ограниченном количестве вещей, которое можно было взять с собой на полюс, в списке под № 60 у него значится «Фот. аппарат с 12 пласт. — 3 ½ ф.».
Скорее всего, это был показ напрямую с фотоплстинок, изготовленных Пинегиным на борту судна, что было немного рискованно — пластинки могли поцарапаться или повредиться при неосторожном обращении. «Волшебный фонарь», используемый при показах со стеклянных пластин, — это простейший проекционный аппарат, работающий от свечи, лампады, а позже —
от электричества.
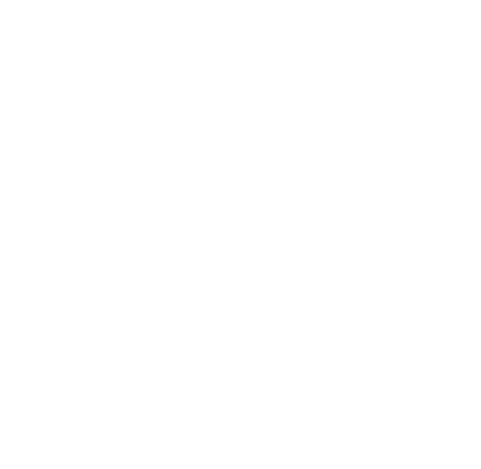
14 августа 1912 года
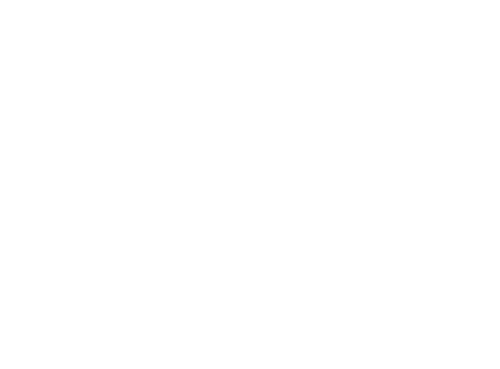
В.Ю.Визе на палубе шхуны «Святой мученик Фока» перед отправкой в экспедицию, Архангельск,
14 августа 1912 года
К счастью для Пинегина, он выбрал приглашение Седова, а не Русанова, чьё плавание, как известно, закончилось трагически для всех его участников. Эта развилка станет ключевой и почти всё определит в жизни Николая Васильевича Пинегина. В экспедиции к Северном полюсу, стартовавшей из Архангельска в конце августа 1912 года и растянувшейся на два года, он будет выполнять функции фотографа, художника, кинооператора и в итоге останется в истории главным её летописцем.
Дневники и воспоминания Пинегина стали основой для ряда книг, художественных фильмов и научных работ.
Учитывая, что одним из популяризаторов и спонсоров экспедиции Георгия Седова был издатель газеты «Новое время» Михаил Суворин, несомненно, что он рассчитывал не только на материальные трофеи в виде шкур белых медведей и бивней моржей. Планировалось издание дневников, печать альбомов, открыток, выпуск киноленты, ведь материал из путешествия в любом случае получился бы эксклюзивным.
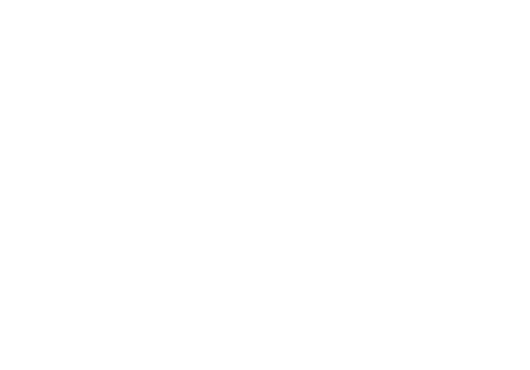
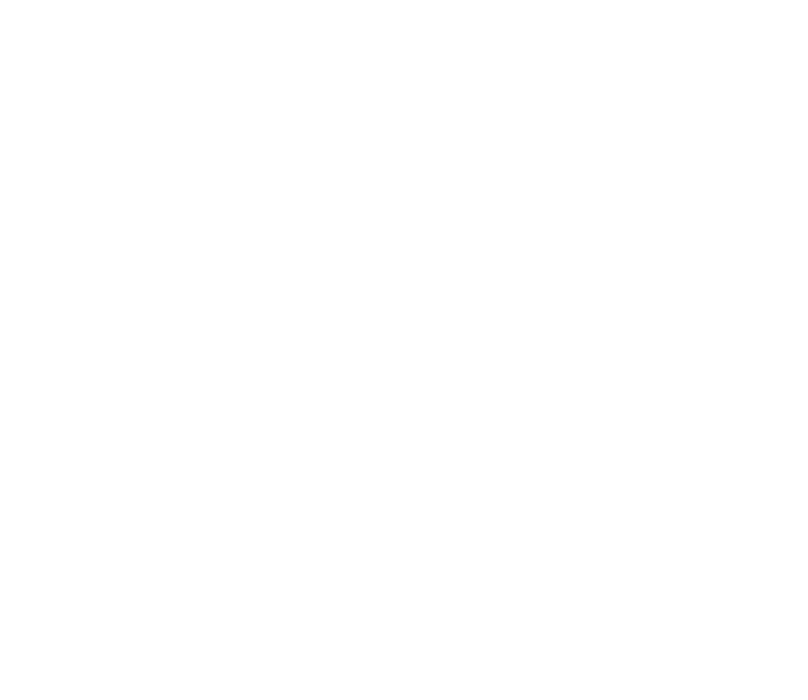
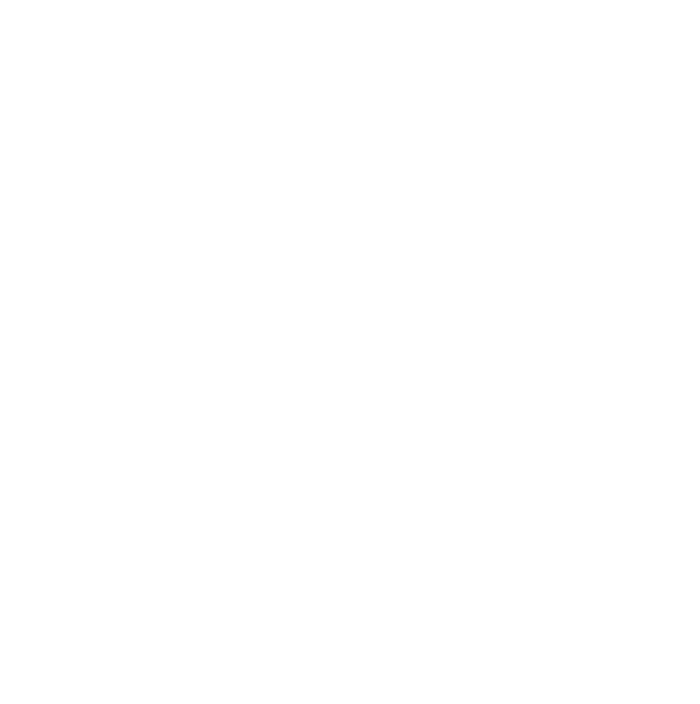
После двухдневной стоянки у Гусиной Земли экспедиция прошла до пролива Маточкин Шар. Во время шторма у мыса Сухой Нос шхуна едва не погибла. Выяснились крайне неприятные моменты: боцман Точилов оказался морфинистом и всё время лежал, переживая ломку. В целом команда, собранная с миру по нитке, показала свою низкую общую квалификацию и даже с трудом работала с парусами. Георгий Седов решает идти на Новую Землю, в хорошо знакомую ему Крестовую губу, чтобы списать непригодных членов команды.
Слева направо: капитан Н. П. Захаров, врач П. Г. Кушаков, механик И. А. Зандер, начальник экспедиции Г. Я. Седов, штурман Н. М. Сахаров, географ В. Ю. Визе, художник Н. В. Пинегин, геолог М. А. Павлов, 1912 год, из фондов РГАВМФ
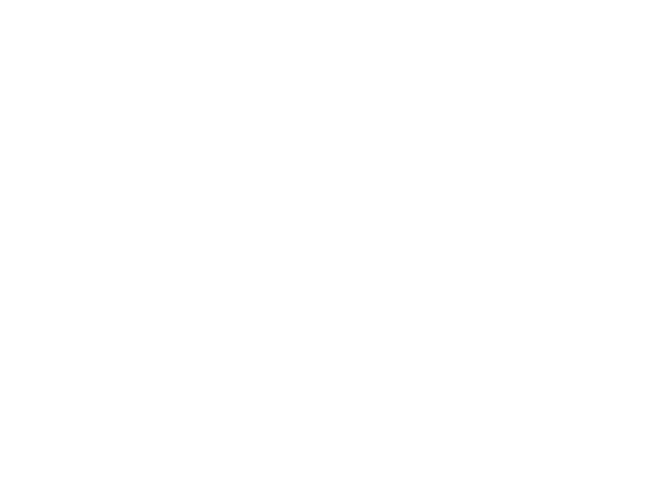
Пинегин пишет этюд. Седов — возможный автор этой фотографии
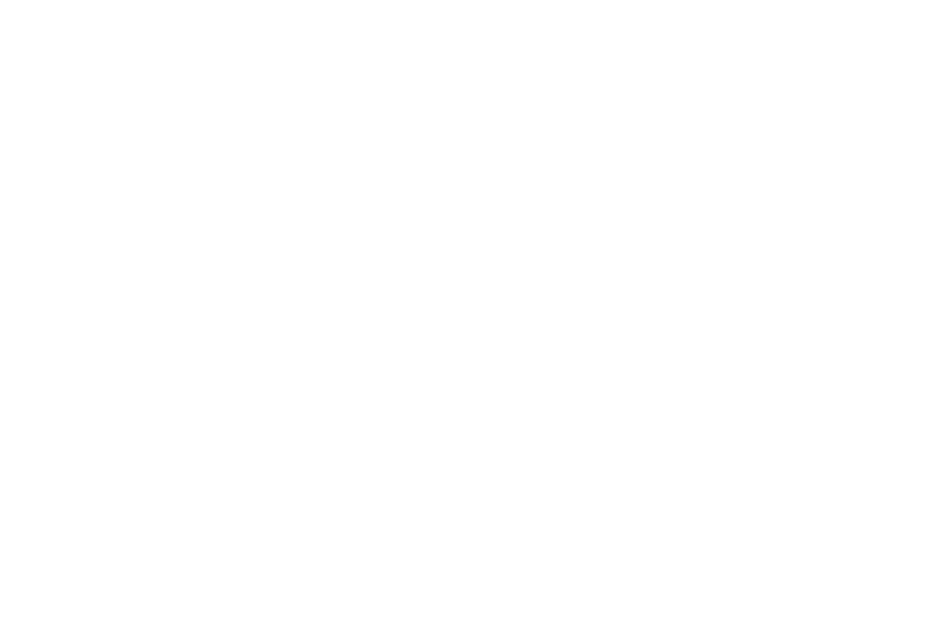
Для самого Пинегина поход к Северному полюсу станет временем, важным в профессиональном смысле.
Важнейшую роль сыграл талант охотника, ярко проявившийся уже на Новой Земле.
Именно Пинегин был основным добытчиком свежего мяса. Географ экспедиции и на долгие годы близкий друг Пинегина Владимир Юльевич Визе особенно отмечал его роль в формировании запасов мяса и сала морских животных, столь необходимых во время долгих месяцев экспедиции.
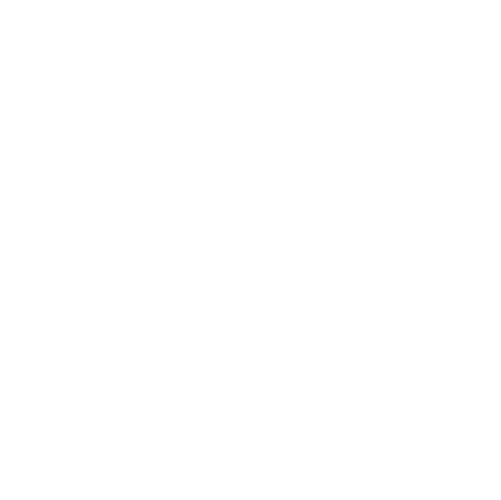
Седов с обмороженным лицом
Штурман Альбанов и матрос Конрад подплывают к шхуне «Святой мученик Фока» на каяке, мыс Флора, Земля Франца-Иосифа, 20 июля 1914 года
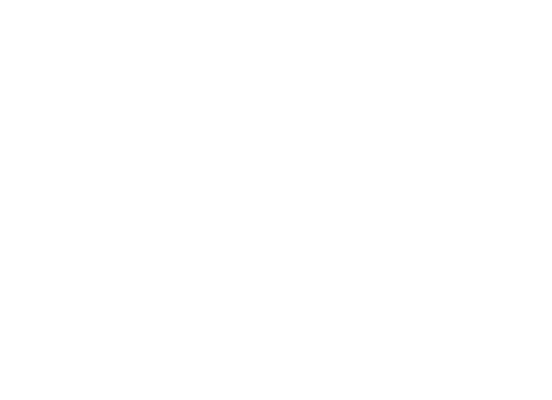
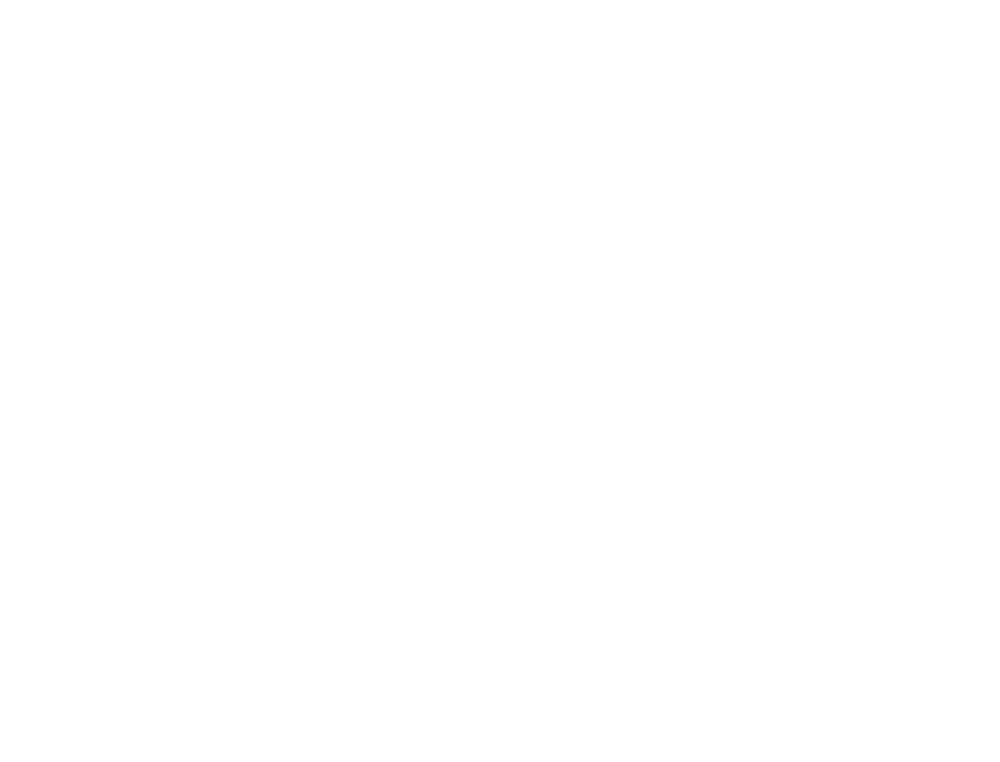
архипелаг Новая Земля, 1913 год, из фондов ГМАиА
Начинается подготовка к «экскурсиям». Так Седов называл вылазки по определённому маршруту с научными целями. В ходе этой подготовки выяснились неприятные сюрпризы. 50 собак, закупленных в Архангельске у Вышомирского, оказались неприспособленными не только к работе в упряжке, но и к жизни в условиях сильных морозов. Они не понимали, что от них требуется в упряжке, не знали команд, плохо переносили холод, не умели спать в снегу.
Из трёх палаток, взятых из Архангельска, только одна, четырёхместная, была пригодна для использования. Две других оказались слишком большие, тяжёлые для перевозки и установки. Их пришлось перешивать на меньший размер.
Особенно удручающей стала новость о непригодности значительной части собак. Седов приказал избавляться от негодных животных.
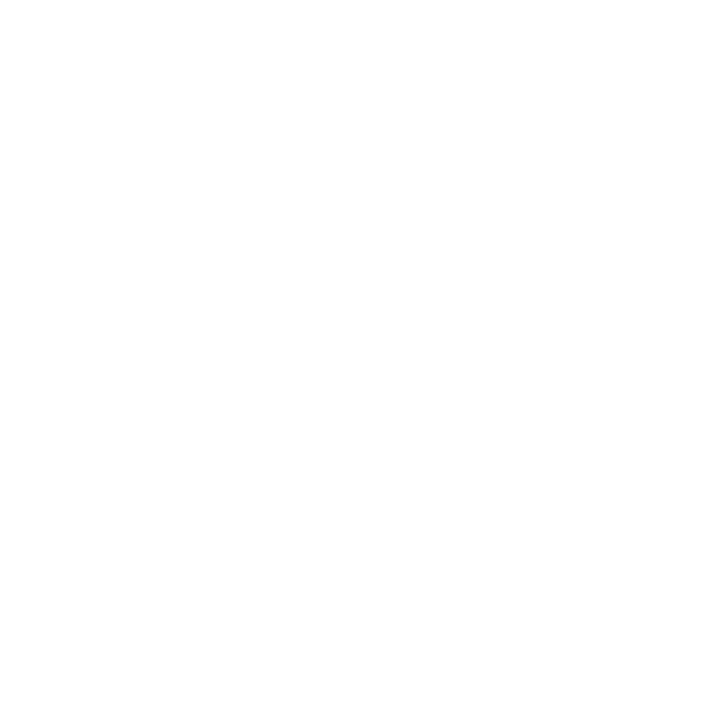
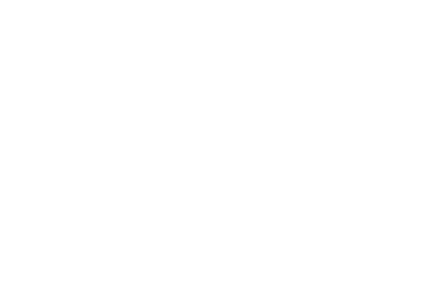
помещениях было холодно. Плохо было и с одеждой. Запись из дневника Н. В. Пинегина: «Коноплёв на днях смастерил веретено и прялку… теперь сучит нитку на дратву. Геолог из подкладки пожертвованного кинооператором футляра мастерит новые рукавицы».
Из-за нехватки свежей пищи с приходом зимы
опять началась цинга.
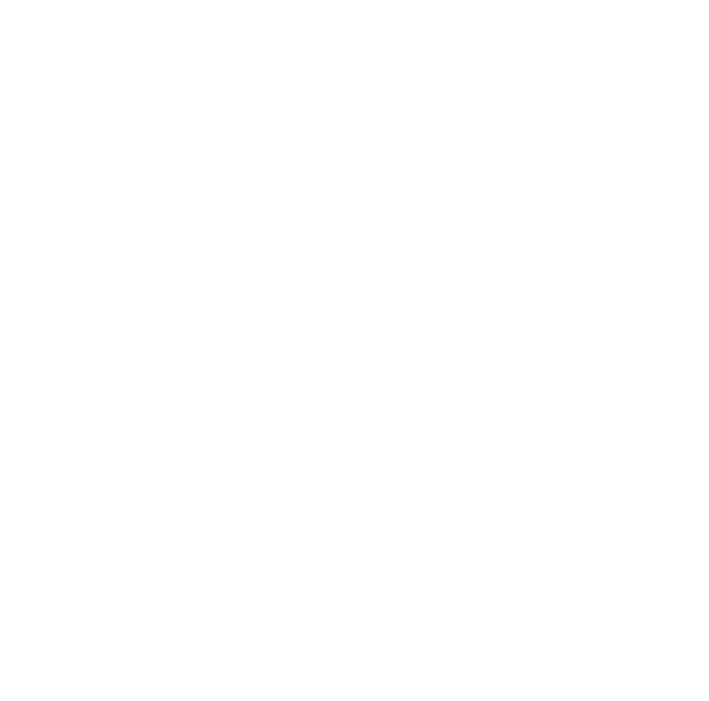
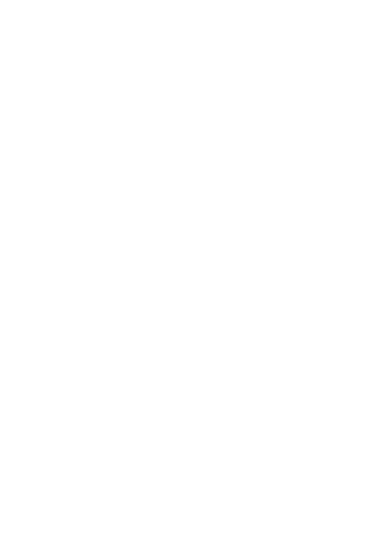
Механик судна «Святой мученик Фока» И. А. Зандер, бухта Тихая, остров Гукера, 1913 год, из фондов ГМАиА
«Болезни на „Фоке“ усиливаются. Утром Зандер почувствовал, что ему плохо, — температура прыгнула до 40°. Слёг Коноплёв. Дёсны Седова кровоточат; распухли ноги, одышка, сонливость и слабость. Вполне здоровых на судне лишь семь человек». За болезнью Седова с особенной тревогой наблюдает весь состав экспедиции. От состояния его здоровья зависит выход полюсной партии».
Седов предполагает взять почти всех собак. Их на судне осталось 28. На трёх нартах уложено провизии для собак на два с половиной месяца, для людей — на пять. Первую нарту Седов назвал «Передовая», вторую — «Ручеёк», третью — «Льдинка». Он очень надеется пополнить запасы на складе экспедиции герцога Абруццкого в заливе Теплиц-бай на острове Рудольфа. 2 февраля начальник экспедиции Г. Я. Седов издаёт приказ: «Отправляясь сего числа с партией к Северному полюсу, передаю временно командование экспедицией со всеми законными правами и обязанностями врачу экспедиции и заведующему хозяйственной частью Павлу Кушакову».
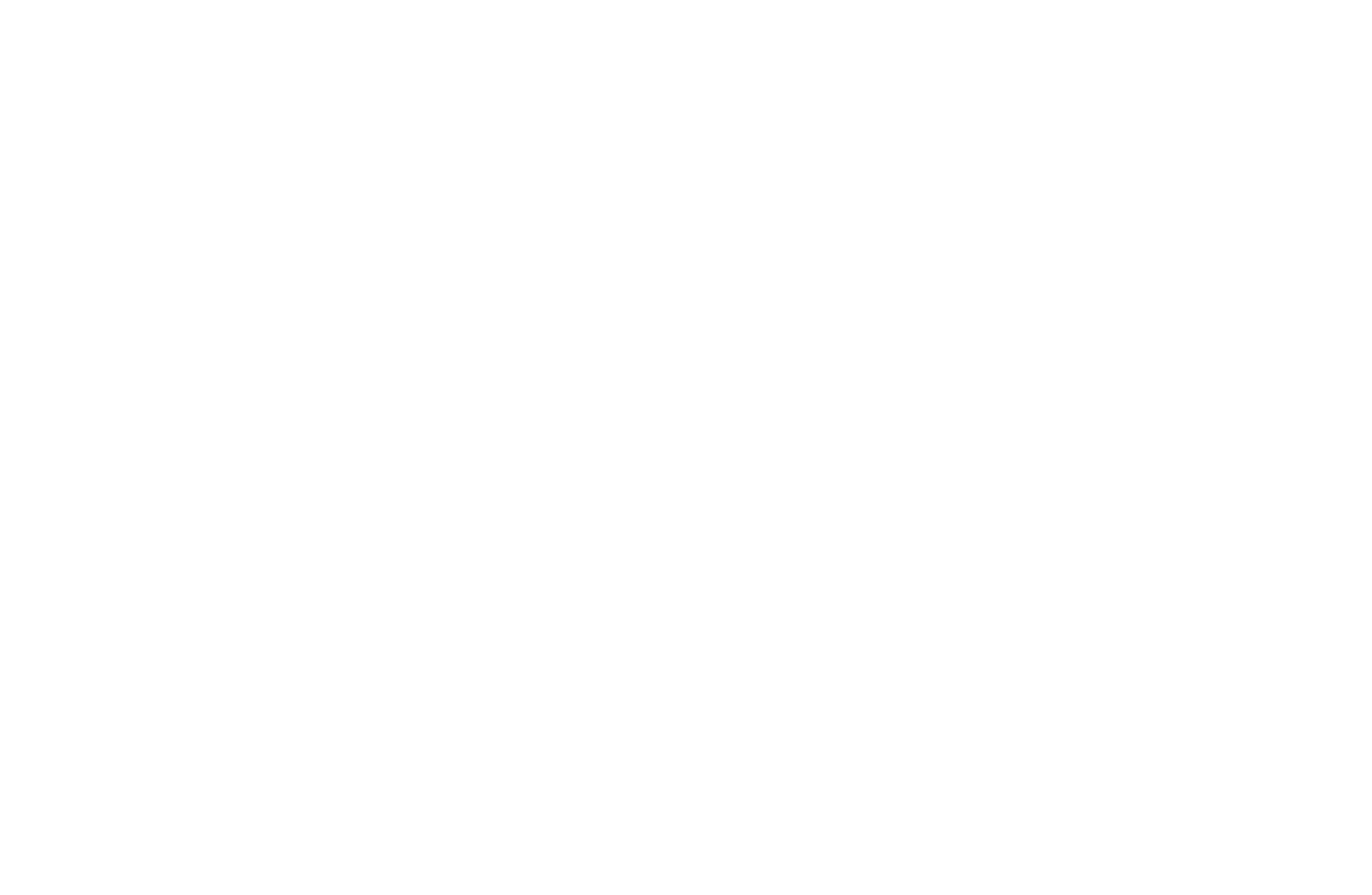
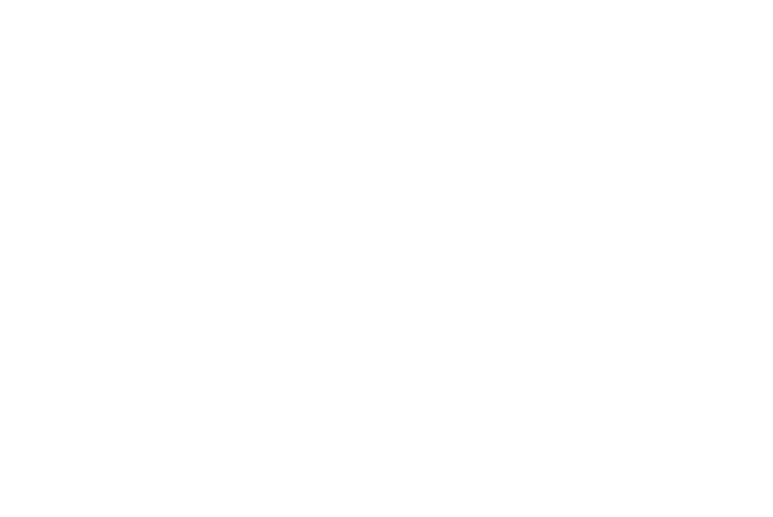
«Сегодня Г. Я. Седов с Г. В. Линником и А. М. Пустошным, со всеми собаками вышел к полюсу. При прощании Георгий Яковлевич, совсем больной, разрыдался.
Выход полюсной партии оставил во мне мрачное впечатление. Гибель этой экспедиции, учитывая смелость,
упорство и легкомыслие её начальника, кажется мне
неизбежной».
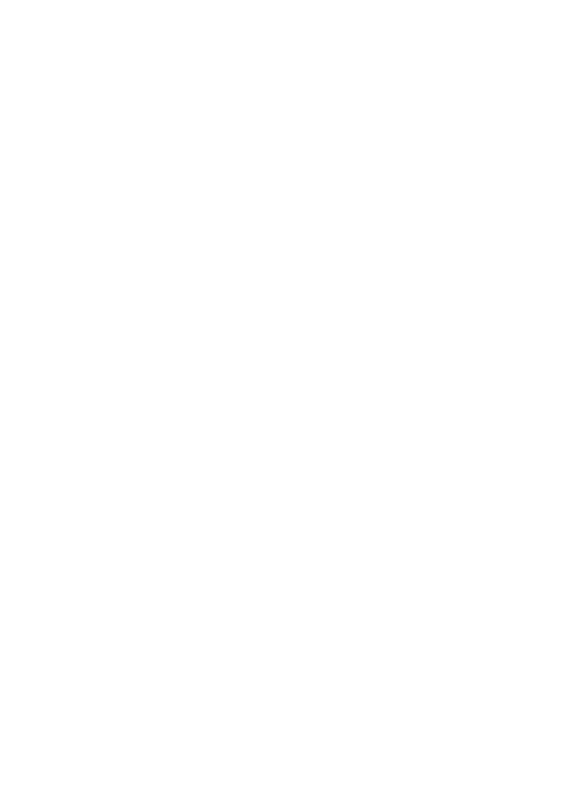
«Мороз стал от −33° до −35°. Сегодня встали около 5 часов утра. Наскоро вылезли из мешков и ходили около палатки для того, чтобы согреться, а потом взяли тело господина начальника и повезли на себе предавать земле. К 10 часам утра предали земле тело начальника, прочитали молитвы, какие мы знали, по христианскому обряду. Тело начальника положили не меньше 5—6 саженей высоты над уровнем моря и заложили камнями, в головах мы поставили крест, сделанный из лыж, а рядом, с левого боку, мы положили около могилы кирку, а с правой стороны осталась нарта и топорик. В могилу положили его, в чём он скончался.
Вместо гроба — два парусиновых мешка. Флаг полюсный мы положили в могилу. Когда окончили погребение, то взяли по три маленьких камешка в карман с могилы нашего дорогого начальника, перекрестились и, чуть не плача, со слезами на глазах, двинулись к палатке...».
Пустошный перед отправлением на полюс
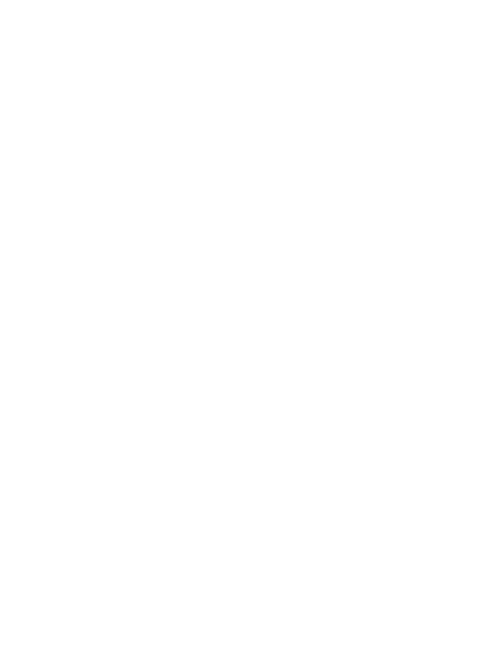
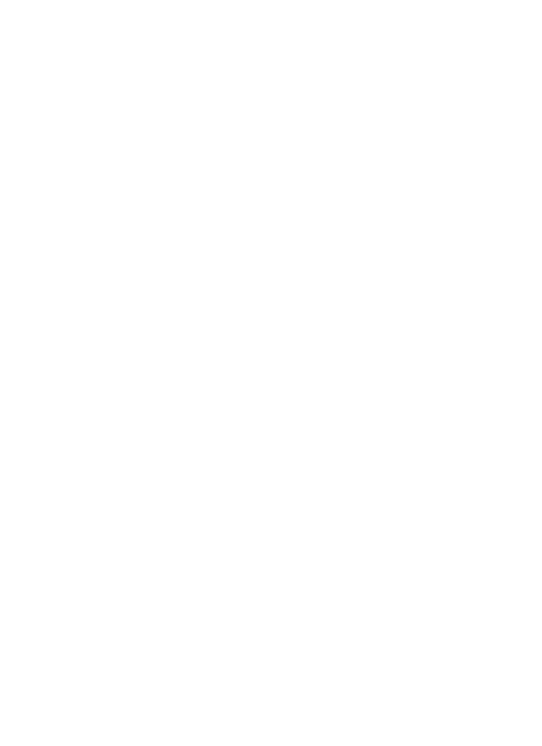
И. Зандер.
1 марта 1914 года — первая смерть на борту судна: умер Иван Андреевич Зандер. Смерть его произвела тяжёлое впечатление на всех участников экспедиции. На следующий день — похороны Зандера.
5 марта штурман Сахаров собрался идти охотиться на птиц. Он первым и увидел возвращающуюся упряжку с полюсной партией. Нарты были одни, людей возвращалось двое.
Из воспоминаний Н. В. Пинегина: «Несколько мгновений спустя, когда глаза привыкли к свету, я разобрал, кто идёт: впереди собак — Линник, а сзади, поддерживая нарту с каяком, — Пустошный. Седова — нет!
Через минуту мы окружили вернувшихся.
— Где начальник?
— Скончался от болезни, не доходя до Теплиц-бай.
Похоронили на том же острове».
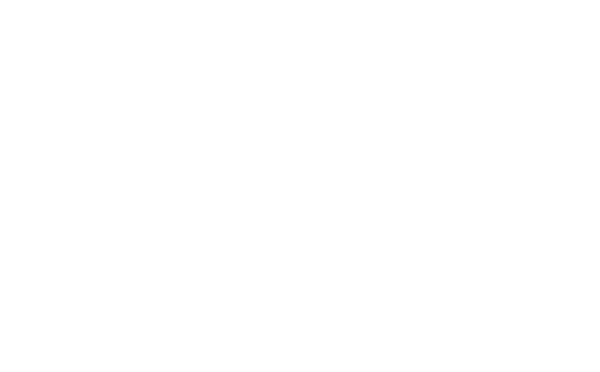
12 марта Пинегин с Инютиным отправляются на мыс Флора. Там посещают «дом Эйры», построенный экспедицией Ли-Смита. За время нахождения на Земле Франца-Иосифа Николаем Пинегиным было сделано несколько этюдов, большое количество фотографий, как пейзажных, так и бытовых. Владимир Визе ведёт топографическую съёмку на острове Гукера. Михаил Павлов собирает геологические материалы о ледниках архипелага.
Во второй половине марта всё чаще появляются белые медведи. На разводьях участники экспедиции удачно охотятся на люриков.
Весна на Землю Франца-Иосифа приходит довольно ранняя и тёплая. Льды постепенно тают. Всё больше медведей приходит к судну. Двоих удаётся подстрелить.
С 14 апреля по 19 апреля В. Ю. Визе в сопровождении
Г.В. Линника проходит на санях вокруг острова Гукера для подробной топографической съёмки.
В мае Визе ещё несколько раз выходит на съёмку окрестных островов.
После смерти Ивана Зандера судно осталось без механика. Младший механик, брат Ивана — Мартин Зандер, был отправлен в Архангельск вместе с капитаном Захаровым. Кочегар Коршунов был болен, однако при помощи Павла Кушакова собрал машину и подготовил её к плаванию.
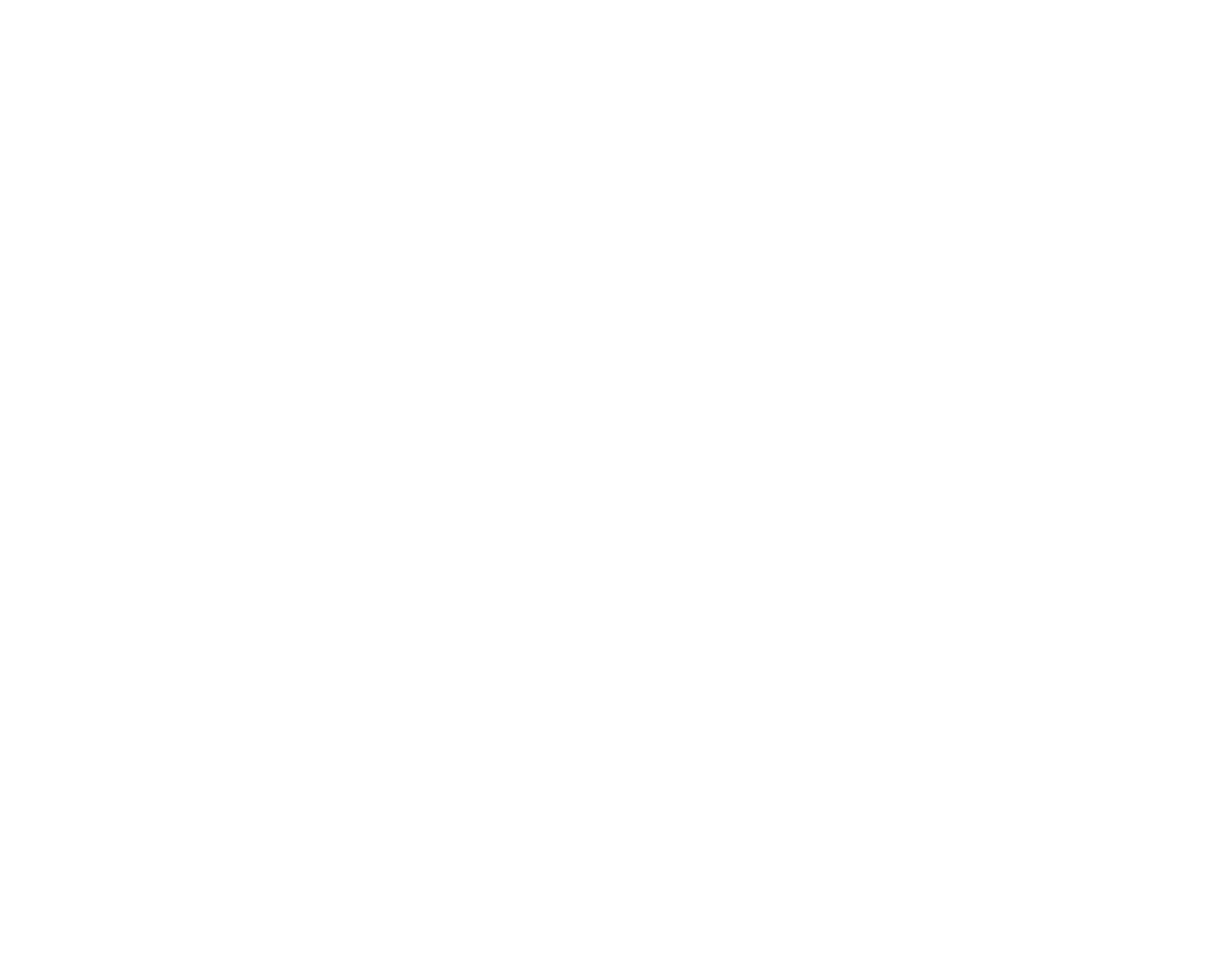
Г. Линника: «Пообсудив за ужином обращение с командой Д-ра, выпили по порядочной чарке и наотрез все отказались от подчинения неумным распоряжениям, чуть не произошёл бунт, большая половина команды, самая способная, решила в случае надобности взять взятый на мысе Флора бот и, бросив на судне одних „офицеров“, направиться на боте к Новой Земле».
Только на следующий день от встреченных рыбаков участники экспедиции узнали о начавшейся войне. 17 августа «Михаил Суворин» подошёл к становищу Рында на Мурманском побережье. Уже с берега исполняющий обязанности начальника П. Г. Кушаков направляет телеграмму Николаю II с сообщением о возвращении экспедиции, смерти Г. Я. Седова и судьбе членов команды Г. Л. Брусилова.
В Комитет снаряжения экспедиции была направлена телеграмма с просьбой о помощи. Совершенно неожиданно для обессиленных двумя зимовками во льдах людей им было рекомендовано «обходиться своими средствами».
На мостике экспедиционного судна уже видны фигуры Кушакова, одетого в белый китель, и штурмана Сахарова, — видимо, единственного человека, умеющего управлять судном. <…> Судно имеет сносный вид и даже принарядилось флагами. <…> Две собаки, оставшиеся в живых, снуют по палубе. Тут же в носовой части бродят медведи без всякой привязи.
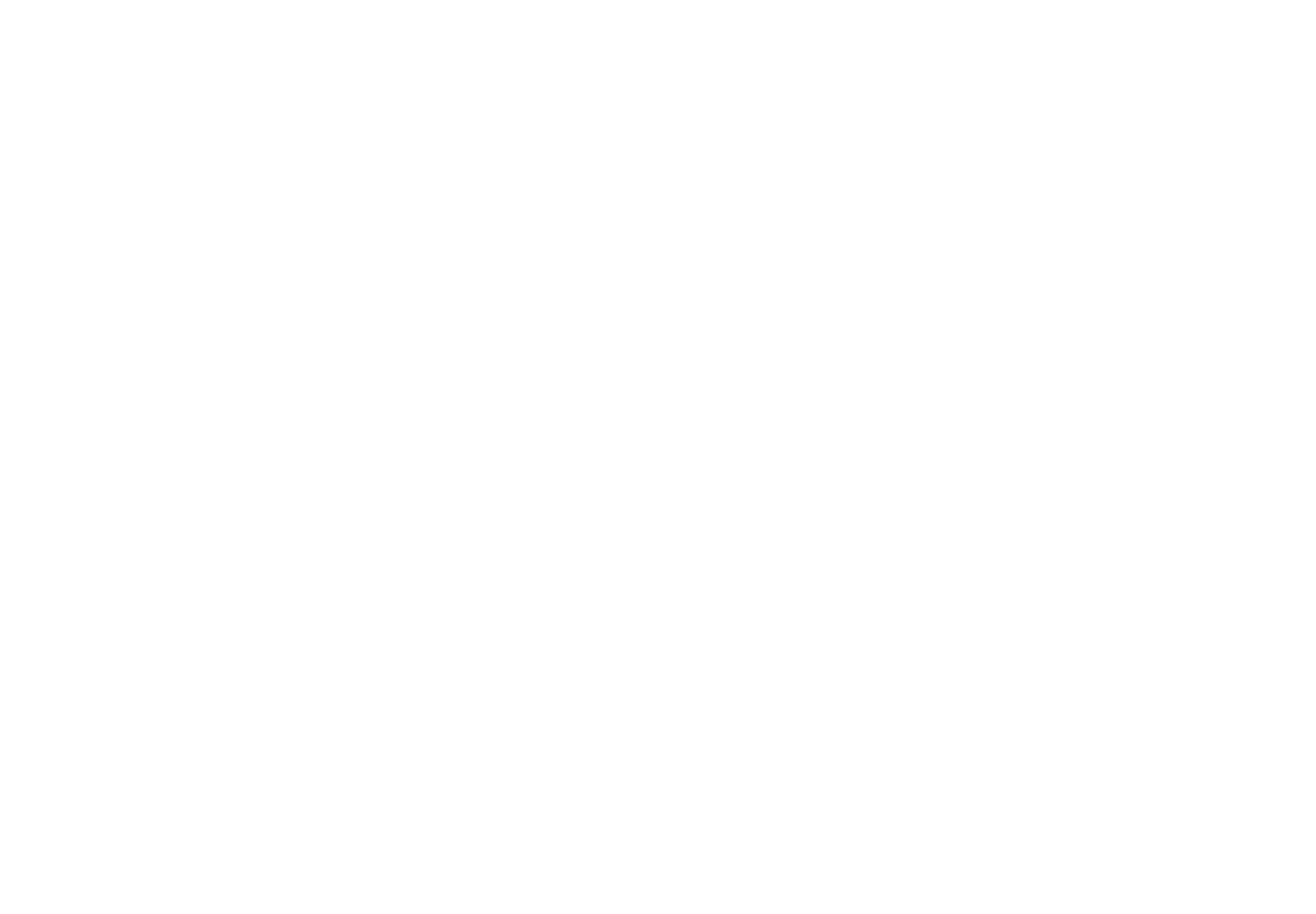
Несмотря на то что свою экспедицию Г.Я. Седов первоначально планировал как не ставящую никаких научных задач, как раз в этом отношении она оказалась очень результативной.
Основными итогами двухлетней экспедиции были:
1. В географическом отношении — картографирование и маршрутная съёмка, позволившая уточнить береговую линию Северного острова Новой Земли от Панкратьевых островов на северо-западной стороне до мыса Виссингерофт — на восточном Карском побережье. Была проведена маршрутная съёмка в самом широком месте Северного острова. На Земле Франца-Иосифа Визе провёл инструментальную съёмку острова Гукера и трёх близлежащих островов, а также астрономическую съёмку на стоянке экспедиции Циглера.
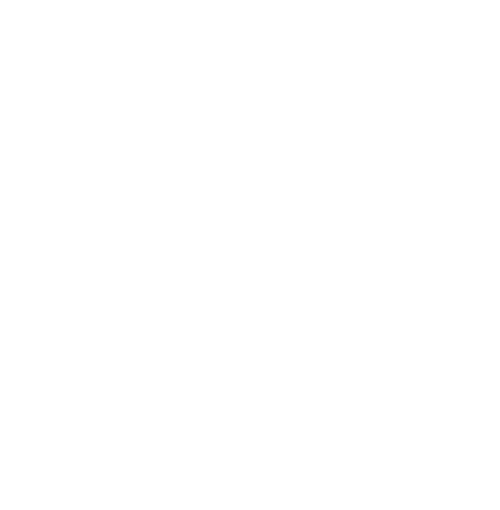
3. В геологическом, минералогическом и палеонтологическом отношении — исследования и сбор образцов, проведённые Павловым на Новой Земле и Земле Франца-Иосифа.
4. В биологическом отношении — исследования фауны Новой Земли и Земли Франца-Иосифа, проведённые П.Г.Кушаковым. Немалый вклад в науку был внесён в результате исследования им паразитов, поражающих птиц и зверей приполярных областей.
5. Наконец, огромное научное и художественное значение имели дневниковые записи, фотографии и киносъёмка, проводившаяся Н. В. Пинегиным. Ценными являются многочисленные этюды и зарисовки полярных сияний, сделанные в экспедиции.
Таким образом, говорить о полном провале экспедиции было бы категорически неверно. Да, экспедиция не достигла своей главной цели — Северного полюса, но исследования, проведённые ею, внесли огромный вклад в научные представления об Арктике.
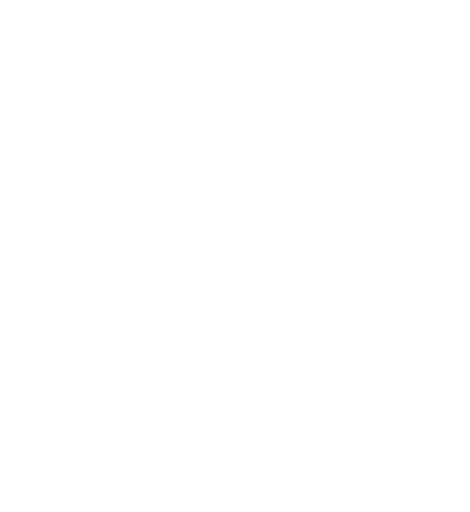
Николай Пинегин в кают-компании «Фоки», осень — зима 1912 года. Из фондов ГБУК АО «Северный морской музей»
Возвращение в учебные аудитории и мастерские Академии художеств триумфальное! Его кинохронику показывают в столичных салонах, а этюды, превращённые в картины, пополняют частные коллекции и занимают почётное место на выставках, где даже получают высокие награды. Так, в 1915 году Пинегин становится обладателем престижной премии Архипа Куинджи. Вторую такую премию, что является исключительным случаем, он получит в 1917 году.
Уже в 1924 году Николай Васильевич отправится в свою первую советскую экспедицию в Арктику. Вопрос важный — строительство в проливе Маточкин Шар на Новой Земле крупной радиостанции с целью обеспечения безопасного плавания по трассе будущего Северного морского пути. В этой экспедиции под началом Николая Евгенова и с участием Рудольфа Самойловича Пинегин знакомится с пионером полярной авиации Борисом Чухновским — будущим героем операции по спасению итальянских воздухоплавателей под руководством У.Нобиле.
В 1927 году Н. В. Пинегин по заказу Комиссии по изучению Якутской АССР Академии наук СССР отправляется на один из самых труднодоступных архипелагов — на Новосибирские острова. Перед ним поставлена задача выбрать место и построить метеорологическую и геофизическую станцию на Большом Ляховском острове.
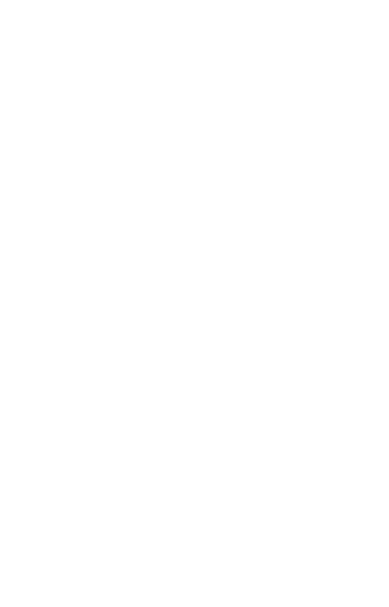
Пинегин и лётчик Чухновский у самолёта. 1924 год. Из фондов ФГБУК «ЦВММ им. императора Петра Великого»
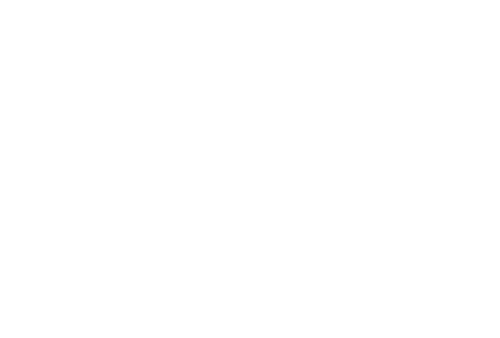
Пинегин получил пять лет ссылки, которую отбывал в в Казахстане. Лето 1935 года он проводит за работой над монографией «Новая Земля», вышедшей в Архангельске осенью того же года. К счастью, отсутствие известного полярного исследователя не прошло бесследно.
Последние несколько лет художник посвятил, как он полагал, важнейшему делу своей жизни — написанию романа «Георгий Седов».
В результате Н. В. Пинегиным из последних жизненных сил была подготовлена художественно-документальная книга. Увы, её публикация произошла уже после смерти писателя и художника. 18 октября 1940 года Николая Васильевича не стало. До настоящего времени книги и образы, созданные Николаем Васильевичем, вдохновляют исследователей, биографов Седова и во многом формируют представление об этом отважном человеке!
Г.Я.Седова к Северному полюсу 1912—1914 гг. / [Е.А.Тенетов, Н.С.Гернет, В.Н.Абрамовский,
А.О.Белов, А.В.Барзенин, С.А.Скачкова, Г.А.Дмитриевская]. — Москва : Паулсен, 2024. — 272 с.,
ил. — 2-е изд., дополненное и переработанное.
Дизайн, верстка: Елена Аврамовски
© ООО «Паулсен», 2025
© Tilda Modern Museum

